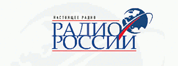Я собаку рисовала -
Получилась кошка.
Потому, что красок мало
И мешал Серёжка.
Рисовала крокодила -
Кролик получился.
Просто места не хватило,
Хвост не поместился[1].
Какие это удивительные минуты - тихо стоять и смотреть, как из-под кисточки маленького человечка выплывают облака, кривенькие рожицы с улыбкой, приветливо выскочившей за контуры лица, и, конечно, это бушующее море, неодолимо перетекающее с края альбомного листа на только что вытертый стол... Кому, как не им, этим пришельцам из другого мира, мира чистоты и непосредственности, ведома радость творчества! Разве это не чудо - легким мановение руки, держащей волшебную палочку кисти, рождать целые миры?
И вот уже рука сама тянется к кисти - но быстро возвращается на свое место: рисовать плохо - стыдно, а хорошо всё равно не получится. Только почему-то в сердце остается странное щемящее чувство... Как хорошо, что рука вовремя спохватилась! Ведь творить - значит, обличать, придавать лик, лицо, тому, что еще не появилось. Но разве искусство не есть обличение прежде всего себя самого - так же, как театральная маска в греческом театре вовсе не скрывала, а, напротив, раскрывала во всей полноте трагическую личность актера, срывая с него приросшую личину обыденности и пошлости? Любое творение есть рождение на свет, отделение от себя самого какой-то части целого. Однако появиться из-под кисти художника, пера писателя или композитора могут не только отзвуки Божественных созвучий, - но и адская сарабанда!
Так будь же зеркалом у Бога,
И, очищаясь, отражай.
Иначе - Красоту не трогай,
Не создавай - не искажай[2].
Мир был создан Богом как Его песня, Его поэма, Его картина. Здесь каждый мазок кисти, каждый аккорд были густыми от переполнявших энергий гармонии, мудрости и красоты. И вот, этот совершенный мир преподносится в дар человеку - отдается весь, без остатка, в его власть: словно в огромный театр с труппой актеров и множеством декораций вводится юный режиссер-постановщик. Но состоится ли премьера - или актеры разбегутся, декорации растащат, и здание опустеет?...
Божественное Откровение свидетельствует, что Адам не справился с возложенным на него призванием стать творцом с малой буквы - он не устоял перед дьявольским соблазном прослыть великим Маэстро сразу, без всякого труда, купив этот титул ценой непослушания. И остался нагим. И было очень стыдно и больно...
Но не лишил Бог падшего человека творческих способностей: только как они стали теперь редки и мелки, будучи отравлены грехом! Словно смутное воспоминание, слабый отблеск былой райской славы свидетельствуют нам о мире ином шедевры мирового искусства. Что такое поэзия? Разве не попытка вернуть слову его исконную глубину, присущую ему красоту звучания? Неужели созвучия музыки только лишь убаюкивают слух, а не зовут присоединиться к сонму голосов, поющих исполненную восхищения песнь Богу? А балет, эта тоска по прекрасному и гармоничному человеческому телу, нетронутому порчей греха и похоти, так много говорящему каждым жестом? Разве не первозданный свет разлит на полотнах картин - сияние красоты непреходящей, вечной, а значит, Божественной?
Кто кисти вдохновенье дал,
чтобы тебя запечатлела?
Кто разум вдохновил на дело?
Кто сей рукой повелевал?
Искусство пусть себе похвал
не расточает слишком много:
портрет, коль мы рассудим строго,
скорей природы торжество,
у человека - мастерство,
но вдохновение - от Бога[3].
Когда творчество замыкается на себе самом, превращается в «искусство ради искусства», оно становится молитвой в никуда. Оторвав человека от бренной земли, оно всё кружит и кружит его в небе - но, не имея цели, снова опускает обратно. В ту же грязь. Тот же серый день. Ту же пустоту, еще более разбередив и так больную душу. И как по-другому несется ввысь молитвенная песнь под расписными сводами белокаменного храма!...
И вещим духом понял я,
Что всё, рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К Нему вернуться жаждет снова,
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону.
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно Начало,
И нет на свете ничего,
Что бы любовью не дышало[4].