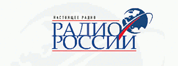В одной из московских школ детям начальных классов предложили написать письмо... Богу. Детские вопросы оказались неожиданными: «Господи, а Ты маму слушал в детстве?» «Синее небо, Господи, это когда y Тебя хорошее настроение?» «Вообще-то я не верю в Тебя. Вот скажи, почему люди не вижут Тебя?» «Почему весной, когда вечером Ты включаешь на небе звезды и дуешь на Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?» И тут вдруг искреннее недоумение: «А слава Тебе жить не мешает?»...
Казалось бы, странный вопрос. Особенно в ребячьих устах. Значит, еще нетронутое «взрослостью» сердце ощутило двойственность, если не лживость, той земной славы, к которой так стремятся многие. Той славы, достигнув которой, понимают поэта:
Я знаю, что такое слава.
Она - ошейник из цветов[1].
А к ошейнику прилагается еще и поводок в чьих-то чужих руках...
Несмотря на такую опасность, славы домогаются любыми путями. Разве не замечательно прослыть по всему миру талантливым композитором, успешным бизнесменом или политиком? Разве не приятно, когда тебя знают люди, которых ты и знать-то не желаешь? Неужели есть что-то неправильное, греховное, в этом исконно присущем человеку искании славы?
К чему ищу так славы я?
Известно, в славе нет блаженства,
Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства.
Пронзая будущего мрак,
Она, бессильная, страдает
И в настоящем все не так,
Как бы хотелось ей, встречает.
Я не страшился бы суда,
Когда б уверен был веками,
Что вдохновенного труда
Мир не обидит клеветами;
Что станут верить и внимать
Повествованью горькой муки
И не осмелятся равнять
С земным небес живые звуки[2].
Увы, равняют. Да и не только с земным - нередко и с тем, что опускается ниже естественного. Недаром о таких людях, захлебывающихся житейскими страстями, апостол Павел говорит, что их слава - в сраме, их бог - чрево, а конец - погибель (Фил.3:19). Насколько легче прославиться в грехе, стоит лишь довести безудержность любой прихоти или страсти до предела - и о тебе заговорят на страницах газет, снимут телерепортаж, может, кто и книжку напишет. Каким бы мерзким ни был этот поступок, о нем заговорят все. Да что там - чем он будет чудовищнее и циничнее, тем скорее о нем пронесется молва людская. То, что веками слыло позором, сегодня подчас может прославляться как доблесть. Вот она, нынешняя слава. Неужели и правда на страницах желтой прессы - лицо наше?...
Конечно же, нет. Такая слава не более чем мимолетная пена, взбиваемая - и также разбиваемая житейской пучиной. Но ведь есть и другая слава, которая идет сквозь века, которую, конечно, тоже можно оболгать, но уничтожить уже невозможно. За что мы прославляем тех, чьи и останки-то давно истлели? За то, что сквозь их дела, сквозь их строки и строфы, полотна и доски нам отражается одна и та же Вечная Слава, Слава Того, Кому Одному только и подобает именоваться Славным:
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, - в ночной тиши,
И в отдалённейшей звезде.
И в глубине моей души.
...И Ты открылся мне: Ты - мир.
Ты - всё, Ты - небо и вода,
Ты - голос бури, Ты - эфир,
Ты - мысль поэта, Ты - звезда[3]..
Но христианство поднимает планку еще выше: призвание человека - быть живым и уникальным отблеском Божественной славы! Разве не сияние Божественной славы этот нетварный свет, который лучится в глазах тех, кто пренебрег собственной славой и отвернулся от человеческих почестей, чтобы стать лучом Божественного света на земле?
...Они сидели рядом, убогий Серафим и Мотовилов, среди зимы и мороза. «Я взглянул в его лицо... Представьте себе в самой середине солнца лицо человека. Вы видите движение его уст, слышите голос, чувствуете, что он вас держит за плечи, но не только рук этих не видите, ни самих себя, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко и озаряющий ярким блеском и снежную пелену, покрывающую поляну, и падающую снежную крупу. - Что же чувствуете вы? - спросил меня о. Серафим. - Необыкновенно хорошо... Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, необыкновенную сладость, радость во всем моем сердце, что никакими словами выразить не могу, - сказал я. - А еще такая теплота необыкновенная!.. - Как, батюшка, теплота? Да ведь в лесу сидим! Зима на дворе, и на нас более вершка снегу... А посмотрите-ка, ведь ни на вас, ни на мне снег не тает! Стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая теплота Духа Святого! Ею-то согреваемые пустынники не боялись мороза, они в благодатную одежду, от Святого Духа истканную, как в шубы, одевались. Так ведь и должно быть на самом деле, что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ведь Господь сказал: "Царствие Божие внутри вас есть".